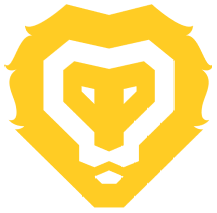Интервью
К 60-летию Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН
В 2024 году Институту теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН исполнилось 60 лет. ИТФ был основан в 1964 году, чтобы сохранить научную школу великого физика-теоретика Льва Ландау. Спустя два года на базе ИТФ открылась кафедра проблем теоретической физики ФОПФ МФТИ (сегодня — ЛФИ МФТИ), многие ее выпускники стали выдающимися учеными и продолжают развивать подходы и методы теоретической физики и получать новые результаты.
Об истории создания ИТФ РАН, о людях и событиях пресс-секретарь ИТФ Екатерина Грек поговорила с научными сотрудниками института Владимиром Минеевым и Николаем Николаевым.
Публикуем авторский текст без сокращений, лишь с незначительными правками.
Об истории создания ИТФ РАН, о людях и событиях пресс-секретарь ИТФ Екатерина Грек поговорила с научными сотрудниками института Владимиром Минеевым и Николаем Николаевым.
Публикуем авторский текст без сокращений, лишь с незначительными правками.

Фото: Николай Малахин, «Научная Россия»
Сегодня, в преддверии юбилея нашего института, мы вспоминаем самые яркие страницы его истории, вспоминаем своих товарищей, отдавших институту многие годы, вспоминаем самих себя. Вспоминая, мы смеемся, радуемся, гордимся. Немножко грустим. О тех, кто ушел, о том, что утрачено и не повторится. Но институт — это не только научные открытия и выведенные формулы. Институт — это его люди. Вот о них мы сегодня и расскажем.
О том, как, кем и когда был открыт институт теоретической физики, рассказывают главный научный сотрудник ИТФ, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Петрович Минеев и главный научный сотрудник ИТФ, доктор физико-математических наук Николай Николаевич Николаев.
О том, как, кем и когда был открыт институт теоретической физики, рассказывают главный научный сотрудник ИТФ, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Петрович Минеев и главный научный сотрудник ИТФ, доктор физико-математических наук Николай Николаевич Николаев.
Откуда есть пошел институт Ландау
«Мы отмечаем 60-летие института, — говорит Владимир Петрович, — но, на самом деле, лишь решение о его создании было принято Госкомитетом по науке и технике и Президиумом Академии наук 14 сентября 1964 года. А сам институт начал работать в 1965 году. Но, говоря о создании института, правильнее начать с легенды о том, как Ландау предрек открытие ИТФ, сказав: «Когда я умру, Халатников с Абрикосовым откроют новый институт — институт патологии, и назовут его моим именем».
Институт действительно был открыт, и произошло это благодаря Исааку Халатникову, ученику Льва Давидовича, — не только блестящему ученому, но и человеку, обладавшему настоящим даром видеть в человеке талант.
Институт действительно был открыт, и произошло это благодаря Исааку Халатникову, ученику Льва Давидовича, — не только блестящему ученому, но и человеку, обладавшему настоящим даром видеть в человеке талант.
“
Он собрал круг людей — необыкновенных, талантливых, одаренных.
Они приехали в Черноголовку из разных мест — Эммануил Рашба, к тому моменту уже лауреат Ленинской премии, прибыл из Киева, Алексей Абрикосов, Лев Горьков, Игорь Дзялошинский — из Москвы, из Долгопрудного приехал Юрий Бычков, из Вильнюса — Ешуа Левинсон, из Новосибирска — Валерий Покровский и Александр Казанцев, из Ленинграда — Герасим Элиашберг (он, правда, уже до этого переехал в Черноголовку). Они и стали первым составом нашего института.
Когда открывался ИТФ, Капица на ученом совете института физпроблем выступил с речью, где прозвучали такие слова: «На охоте можно уметь хорошо стрелять, но ничего не добыть, поскольку нужны угодья. А где у вас угодья? Где экспериментальная физика? Потом Петр Леонидович добавил, что работать в новом институте будут «птенцы нашего гнезда». А во главе института будет стоять Халатников и ему придется не только заниматься организацией научной работы, но и устраивать людей в дома отдыха, воспитывать своих птенцов и смотреть, чтобы кукушка не украла яйца. На что Халатников отвечал: «В Черноголовке имеются экспериментальные угодья. А, смотреть будем, вокруг иногда не только кукушки, но и орлы летают».
Рассказывает Николай Николаевич: «Когда в 1964 год я поступал на Физтех, то набрал 16 баллов. Когда меня вызвали на собеседование, я увидел маститых ученых, заведующих кафедрами, которые сидели за длинным столом.
Когда открывался ИТФ, Капица на ученом совете института физпроблем выступил с речью, где прозвучали такие слова: «На охоте можно уметь хорошо стрелять, но ничего не добыть, поскольку нужны угодья. А где у вас угодья? Где экспериментальная физика? Потом Петр Леонидович добавил, что работать в новом институте будут «птенцы нашего гнезда». А во главе института будет стоять Халатников и ему придется не только заниматься организацией научной работы, но и устраивать людей в дома отдыха, воспитывать своих птенцов и смотреть, чтобы кукушка не украла яйца. На что Халатников отвечал: «В Черноголовке имеются экспериментальные угодья. А, смотреть будем, вокруг иногда не только кукушки, но и орлы летают».
Рассказывает Николай Николаевич: «Когда в 1964 год я поступал на Физтех, то набрал 16 баллов. Когда меня вызвали на собеседование, я увидел маститых ученых, заведующих кафедрами, которые сидели за длинным столом.
“
А в центре разместился лысоватый ничем не примечательный человек, который, как мне показалось, спал. И это меня задело.
Когда были оглашены мои жалкие достижения, этот человек вдруг открыл глаза и удивленно спросил: «Как могло произойти, что вы окончили 10 классов, а не 11?». Я объяснил, что это было связано с реорганизацией школы в целом, и в нашей деревне в частности. Тогда лысоватый спрашивает: «А почему вы решили поступать на Физтех?» Я отвечаю: «Знаете, я, конечно, собирался в Горьковский политех, ведь у нас в деревне поступление в него считается высшим пилотажем. Но в конце марта пришла газета „Комсомольская правда“, в которой было объявление о том, что наложенным платежом рассылаются вступительные задачи в МФТИ за предыдущие годы. В мае я получил бандероль, потренировался решать задачи, и, вот, приехал в Долгопрудный, поступать».
Поселили меня в общежитии, где мы спали в коридоре прямо на полу, на матрасах. Эта неделя стали для меня периодом фантастического образования. Например, тогда я впервые увидел сборник «Задачи по физике» Зубова и Шальнова. Я решал, читал, слушал. Экзамены сдавал в третьем потоке.
А тем временем лысоватый человек продолжил собеседование: «А чем вы занимались в школе помимо учебы?» «Фотографией, — говорю, — занимался и радио-любительством, А еще работал на комбайне». Дело в том, что поток техники, поставляемой в деревню, был таким мощным, что не успевали подготовить механизаторов. И старший комбайнер позвал меня в помощники. Примерно это я рассказал лысоватому, и он задал еще пару вопросов по радиотехнике. Ответы его вполне устроили. Напоследок кто-то другой из уважаемой комиссии спросил: «Что будете делать, если не примем?» «Годик поработаю у себя в деревне и опять приеду».
Поселили меня в общежитии, где мы спали в коридоре прямо на полу, на матрасах. Эта неделя стали для меня периодом фантастического образования. Например, тогда я впервые увидел сборник «Задачи по физике» Зубова и Шальнова. Я решал, читал, слушал. Экзамены сдавал в третьем потоке.
А тем временем лысоватый человек продолжил собеседование: «А чем вы занимались в школе помимо учебы?» «Фотографией, — говорю, — занимался и радио-любительством, А еще работал на комбайне». Дело в том, что поток техники, поставляемой в деревню, был таким мощным, что не успевали подготовить механизаторов. И старший комбайнер позвал меня в помощники. Примерно это я рассказал лысоватому, и он задал еще пару вопросов по радиотехнике. Ответы его вполне устроили. Напоследок кто-то другой из уважаемой комиссии спросил: «Что будете делать, если не примем?» «Годик поработаю у себя в деревне и опять приеду».
“
Но меня приняли. И главную роль в этом решении сыграл лысоватый — им был сам Петр Леонидович Капица, председатель приемной комиссии МФТИ, и я оказался на его базовой кафедре.
После 1-го курса я пришел к Петру Леонидовичу подписывать заявление о переводе на базовую кафедру в ИТЭФ и вместо недовольства услышал: «Молодой человек должен сам решать свою судьбу». И заявление было подписано».
«На Физтехе я учился на ФОПФе, и почему-то меня тянуло в ИТЭФ, — Николай Николаевич улыбается, — и вот, в 1965 год, в сентябре на Физтехе выступали Дзялошинский, Горьков и Халатников. Они рассказывали о том, что создан новый институт — теоретической физики. Я их тогда с большим интересом послушал, но факт создания ИТФ близко к сердцу не принял. Кроме ИТЭФ, другие варианты я не рассматривал. И только потом, после первой зимней школы ИТЭФ, где я был в числе лекторов и познакомился с Анатолием Ивановичем Ларкиным, я круто изменил свое мнение. Ларкин рассказал мне об ИТФ, и когда он предложил: «Да ты приходи к нам, Коля!», я понял — это и есть моя судьба.
Можно сказать, что Анатолий Иванович — мой крестный отец. Это выдающийся человек, воспитавший таких учеников, как Павел Вигман, Константин Ефетов и многих других. Из ИТЭФ сюда пришли Евгений Богомольный, Александр Замолодчиков, Александр Поляков и Александр Мигдал, из МИФИ — Владимир Фатеев. Но в основном институт наш пополнялся студентами из МФТИ, факультета общей и прикладной физики. Действительно, была у Халатникова такая особенность — смотрел по сторонам, и присматривал самых способных студентов. Мы все знали: мимо Халата не пройдешь».
«На Физтехе я учился на ФОПФе, и почему-то меня тянуло в ИТЭФ, — Николай Николаевич улыбается, — и вот, в 1965 год, в сентябре на Физтехе выступали Дзялошинский, Горьков и Халатников. Они рассказывали о том, что создан новый институт — теоретической физики. Я их тогда с большим интересом послушал, но факт создания ИТФ близко к сердцу не принял. Кроме ИТЭФ, другие варианты я не рассматривал. И только потом, после первой зимней школы ИТЭФ, где я был в числе лекторов и познакомился с Анатолием Ивановичем Ларкиным, я круто изменил свое мнение. Ларкин рассказал мне об ИТФ, и когда он предложил: «Да ты приходи к нам, Коля!», я понял — это и есть моя судьба.
Можно сказать, что Анатолий Иванович — мой крестный отец. Это выдающийся человек, воспитавший таких учеников, как Павел Вигман, Константин Ефетов и многих других. Из ИТЭФ сюда пришли Евгений Богомольный, Александр Замолодчиков, Александр Поляков и Александр Мигдал, из МИФИ — Владимир Фатеев. Но в основном институт наш пополнялся студентами из МФТИ, факультета общей и прикладной физики. Действительно, была у Халатникова такая особенность — смотрел по сторонам, и присматривал самых способных студентов. Мы все знали: мимо Халата не пройдешь».
Каждый был личностью
Рассказывает Владимир Петрович: «У Ландау была уникальная особенность, он сразу видел все сильные и слабые места работы, как будто был знаком с ней заранее. Когда Лев Давидович попал в катастрофу, Юрий Васильевич Шарвин, замечательный ученый из института П. Л. Капицы (ИФП) сказал: «Теперь мы, как все». Гения не стало. Так вот, теперь того института, который был в начале 90-х, тоже уже нет. Но мы находимся на хорошем профессиональном уровне. Сейчас значительно меньше физики конденсированных сред, но значительно больше гидродинамики.
После ухода Ландау Халатников говорил, что теперь нам нужен коллектив, который будет играть роль Ландау — критиковать друг друга, слушать друг друга.
После ухода Ландау Халатников говорил, что теперь нам нужен коллектив, который будет играть роль Ландау — критиковать друг друга, слушать друг друга.
“
Он сравнивал это с персимфансом — первым симфоническим оркестром, который выступал без дирижера. Обычно без дирижера ничего не получается, за исключением тех редких случаев, когда собираются одни солисты. Вот так и в нашем институте — были одни солисты, исключительные личности.
В 1995 году вышла книга «30 лет институту Ландау». Состоит она из 75 статей, принадлежащих перу 70 авторов. Из этих 70 авторов многие уехали за границу, некоторые умерли или перешли на другую работу. В институте осталось 14 человек. Цитируемость статей была высокая, чем очень гордился наш первый директор Исаак Маркович Халатников. Какой-то известный американский журнал в начале 90-х годов опубликовал рейтинг научных организаций по индексу цитируемости статей, нормированному на число сотрудников института. Наш институт там стоял на первом месте, за ним Ecole Normale Superieure… А список был длинный, из наших туда входили и ФИАН, и МГУ, и ИТЭФ, и несколько химических институтов.
Об этом можно говорить бесконечно, и этому существует невероятное количество подтверждений. Например, руководство немецкого института Макса Планка, имеющего ряд небольших институтов в разных университетских городах Германии, пригласило нашего выдающегося ученого Константина Борисовича Ефетова в один из своих институтов в качестве директора. И было это в 80-х прошлого века, еще до развала СССР и до всякой перестройки. Халатников говорил: «Если мы выставим команду из ИТФ, а американцы соберут сборную со всего Восточного побережья, эти две команды будут сопоставимы по уровню». Думаю, этой фразой все сказано».
Об этом можно говорить бесконечно, и этому существует невероятное количество подтверждений. Например, руководство немецкого института Макса Планка, имеющего ряд небольших институтов в разных университетских городах Германии, пригласило нашего выдающегося ученого Константина Борисовича Ефетова в один из своих институтов в качестве директора. И было это в 80-х прошлого века, еще до развала СССР и до всякой перестройки. Халатников говорил: «Если мы выставим команду из ИТФ, а американцы соберут сборную со всего Восточного побережья, эти две команды будут сопоставимы по уровню». Думаю, этой фразой все сказано».
Как работали
«В основном, сотрудники института работали дома, — продолжает рассказ Владимир Петрович, — но были у нас и присутственные дни — четверг и пятница. В четверг проходил теоретический семинар в институте Капицы, а в пятницу — здесь, у нас, в Черноголовке. И вот в пятницу, когда приходил автобус, еще до начала семинара шли всевозможные обсуждения.
“
Весь коридор был завешан досками, толпа была, как в вагоне метро в час пик, и наши сотрудники делились с коллегами тем, что придумали за неделю.
На посторонних это производило фантастическое впечатление. Все что-то доказывали друг другу, писали на досках формулы, говорили и спорили одновременно. А сейчас все онлайн. Даже на юбилейной конференции в зале иной раз сидело четыре слушателя, председатель и я. Остальные — на связи».
«А я вот всегда работал только в институте, — добавляет Николай Николаевич. — Два сдвинутых стола на четверых: Ларкин, Овчинников, Хмельницкий и я. Компьютеров не было, докторскую диссертацию в двести страниц писали вручную, вручную вписывали туда формулы… Вот так мы и работали».
«А я вот всегда работал только в институте, — добавляет Николай Николаевич. — Два сдвинутых стола на четверых: Ларкин, Овчинников, Хмельницкий и я. Компьютеров не было, докторскую диссертацию в двести страниц писали вручную, вручную вписывали туда формулы… Вот так мы и работали».
Ученые и старейшины
В Институте право на защиту диссертаций определялось тайным голосованием Ученого совета.
«Когда наше поколение подросло, — вспоминает Николай Николаевич, — и в 81−83 годах мы защитили свои докторские диссертации, из молодых докторов был организован малый ученый совет — «совет старейшин», который вырабатывал рекомендации для Ученого совета, кому пора защищаться, а кому нет. Не было ни одного случая, когда последующее тайное голосование не подтверждало вердикта «совета старейшин». Так это работало.
«Когда наше поколение подросло, — вспоминает Николай Николаевич, — и в 81−83 годах мы защитили свои докторские диссертации, из молодых докторов был организован малый ученый совет — «совет старейшин», который вырабатывал рекомендации для Ученого совета, кому пора защищаться, а кому нет. Не было ни одного случая, когда последующее тайное голосование не подтверждало вердикта «совета старейшин». Так это работало.
“
Идея Халатникова была не только в том, чтобы просто сохранить высокий научный уровень института, но перенести ответственность за его будущее на наше поколение и, тем самым, воспитать нас.
В малый совет входили: Александр Замолодчикова, Григорий Воловик, Константин Ефетов, Давид Хмельницкий, Сергей Бразовский, Николай Николаев, Юрий Овчинников, Павел Вигман, Борис Ивлев, а председателем был Владимир Минеев. А в «старшем» Ученом совете состояли люди с мировыми именами — Исаак Маркович Халатников, Лев Петрович Горьков, Валерий Леонидович Покровский, Анатолий Иванович Ларкин, Герасим Матвеевич Элиашберг, Алексей Алексеевич Абрикосов, Эммануил Иосифович Рашба, Марк Яковлевич Азбель, Аркадий Бейнусович Мигдал, Сергей Петрович Новиков, Яков Григорьевич Синай, Игорь Ехиельевич Дзялошинский, Владимир Наумович Грибов, Сергей Викторович Иорданский и Сергей Иванович Анисимов».
Как мы боролись
«В 90-х годах прошлого века, — продолжает Владимир Петрович, — наш институт хотели закрыть. Или хотя бы вернуть туда, откуда он вышел, а именно — в теоретический отдел Института физических проблем. Когда-то наши отцы-основатели (И. М. Халатников, А. А. Абрикосов, Л. П. Горьков и И. Е. Дзялошинский) работали в ИФП, созданном П. Л. Капицей. Кому-то захотелось повернуть время вспять, и загнать разросшийся самостоятельный институт в рамки отдела.
Директором нашего института был тогда выдающийся ученый Владимир Захаров, а я был вице-директором (такой должности нигде в других академических институтах больше не было). Обоих назначало Общее собрание Отделения физики и астрономии РАН. Захаров тогда временно работал в Японии, и этот факт очень раздражал недоброжелателей. Как же институт может существовать без директора? Надвигалась буря.
Состоялось специальное заседание Президиума Академии наук, где Виталий Лазаревич Гинзбург выступил против ИТФ. После этого слово взял я и стал сравнивать текущие показатели работы (дипломники, аспиранты, защиты диссертаций, конференции…) теоротдела ФИАН и ИТФ им. Ландау. Оказалось, что ИТФ однозначно опережает теоротдел Физического института. Возразить на это было нечего».
Директором нашего института был тогда выдающийся ученый Владимир Захаров, а я был вице-директором (такой должности нигде в других академических институтах больше не было). Обоих назначало Общее собрание Отделения физики и астрономии РАН. Захаров тогда временно работал в Японии, и этот факт очень раздражал недоброжелателей. Как же институт может существовать без директора? Надвигалась буря.
Состоялось специальное заседание Президиума Академии наук, где Виталий Лазаревич Гинзбург выступил против ИТФ. После этого слово взял я и стал сравнивать текущие показатели работы (дипломники, аспиранты, защиты диссертаций, конференции…) теоротдела ФИАН и ИТФ им. Ландау. Оказалось, что ИТФ однозначно опережает теоротдел Физического института. Возразить на это было нечего».
“
В науке кипят такие же страсти, как и везде, а у академиков тоже временами возникает желание разделаться с соперниками. Ученые, хоть и ищут истину, но остаются просто людьми.
Про наши идеологические семинары
Рассказывает Владимир Петрович: «В те времена в любом учреждении ежемесячно проводились идеологические семинары. У нас они тоже были, только вместо того, чтобы обсуждать решения съездов КПСС, мы слушали очень интересные лекции по литературе, культуре и истории. Просвещать нас приезжали прославленные гуманитарии, поскольку у наших руководителей, физиков с мировыми именами, были соответствующие знакомые в гуманитарных кругах.
“
Однажды к нам в институт приехал Сергей Сергеевич Аверинцев — филолог, библеист, переводчик, знаток древних языков, личность знаменитая и выдающаяся. Он рассказывал нам о классической филологии — науке, несущей знания о жизни, верованиях, культуре людей предшествующих цивилизаций.
По окончании лекции Исаак Маркович Халатников в своем благодарственном слове попросил докладчика приезжать еще и в следующей лекции рассказать нам о Фройде (почему-то он так назвал его на немецкий лад). «Расскажите, Сергей Сергеевич, а то мы об этом совсем ничего не знаем» — сказал Халатников. В наступившей тишине, раздался голос Дзялошинского: «Ты…ты…ты… (от заикался), Исаак, это ТОЧНО». Зал захлебнулся смехом. Через месяц лекцию про учение Фрейда прочел сам Игорь Ехиельевич Дзялошинский — научный редактор книги «Основы психоанализа», изданной тогда в академической серии «Литпамятники». Фрейд не издавался у нас в стране с 20-х годов, и появление этой книги обязано настойчивости Игоря Ехиелиевича и поддержке члена редколлегии Литпамятников Петра Леонидовича Капицы».
Как Коля Николаев проводил в Америке «Ленинский урок»
Рассказывает Николай Николаевич: «В 1991 году я поехал в командировку в Сиэтл в институт ядерной физики. Там проходила школа, на которой я выступал с докладом. И вот как-то утром я пришел на работу, а коллеги мне говорят: «Коля! Что там у вас в Москве происходит?! Путч?! Переворот?!» Я, конечно, страшно удивился — сижу у себя в общаге, в крохотной комнатке без телевизора и даже приемника, думаю только о своей работе и ни о чем другом понятия не имею. Полный информационный вакуум.
На кухоньке, где мы пили кофе, стоял маленький телевизор. Я побежал к нему, рассчитывая хоть немного разобраться в ситуации. Включаю и сразу вижу на экране Геннадия Янаева. Для тех, кто забыл, это — член Политбюро, секретарь ЦК КПСС, являлся и.о. президента СССР. По сути, это он был руководителем ГКЧП. Когда я его увидел, то первая мысль была: «Если этого человека выставили вперед, то ничего серьезного произойти не могло».
Сел я к компьютеру и поразился! Несмотря на то, что интернета в нашей стране в то время практически не было, я получил несколько десятков сообщений из разных городов СССР, в которых люди рассказывали о том, что произошло в Москве и в Новосибирске, и обсуждали события. Кто-то включил меня в рассылку, и я невольно погрузился в тему переворота просто с головой. Был и один знакомый, который жил на Калининском проспекте, и из окон его квартиры открывался вид на площадь перед Белым домом. К тому же у него дома имелся модем, что было несказанной редкостью по тем временам. И этот знакомый в красках живописал все, что видел со своего балкона.
Словом, почитав и посмотрев на происходящее дома, я сделал кое-какие выводы и вернулся к работе. Но тут меня разыскала секретарь и говорит: «Коля, тут одна газета хочет взять у тебя интервью по поводу происходящего в Советском Союзе». Я согласился, и вскоре корреспондент с круглыми от возбуждения глазами задал мне вопрос: «Каково ваше мнение о происходящем в Москве?» Предполагалось, что я буду говорить о всяких ужасах, но я спокойно ответил: «Как учил товарищ Ленин, первым делом нужно брать почту, телеграф, вокзалы и банки. Ничего из этого путчисты в Москве не взяли, да и интернет не перекрыли. Поэтому, мой прогноз таков: все это кончится ничем». Корреспондент скис. Конечно, американская пресса рассчитывала на совершенно другие ответы, но порадовать их мне было нечем.
На кухоньке, где мы пили кофе, стоял маленький телевизор. Я побежал к нему, рассчитывая хоть немного разобраться в ситуации. Включаю и сразу вижу на экране Геннадия Янаева. Для тех, кто забыл, это — член Политбюро, секретарь ЦК КПСС, являлся и.о. президента СССР. По сути, это он был руководителем ГКЧП. Когда я его увидел, то первая мысль была: «Если этого человека выставили вперед, то ничего серьезного произойти не могло».
Сел я к компьютеру и поразился! Несмотря на то, что интернета в нашей стране в то время практически не было, я получил несколько десятков сообщений из разных городов СССР, в которых люди рассказывали о том, что произошло в Москве и в Новосибирске, и обсуждали события. Кто-то включил меня в рассылку, и я невольно погрузился в тему переворота просто с головой. Был и один знакомый, который жил на Калининском проспекте, и из окон его квартиры открывался вид на площадь перед Белым домом. К тому же у него дома имелся модем, что было несказанной редкостью по тем временам. И этот знакомый в красках живописал все, что видел со своего балкона.
Словом, почитав и посмотрев на происходящее дома, я сделал кое-какие выводы и вернулся к работе. Но тут меня разыскала секретарь и говорит: «Коля, тут одна газета хочет взять у тебя интервью по поводу происходящего в Советском Союзе». Я согласился, и вскоре корреспондент с круглыми от возбуждения глазами задал мне вопрос: «Каково ваше мнение о происходящем в Москве?» Предполагалось, что я буду говорить о всяких ужасах, но я спокойно ответил: «Как учил товарищ Ленин, первым делом нужно брать почту, телеграф, вокзалы и банки. Ничего из этого путчисты в Москве не взяли, да и интернет не перекрыли. Поэтому, мой прогноз таков: все это кончится ничем». Корреспондент скис. Конечно, американская пресса рассчитывала на совершенно другие ответы, но порадовать их мне было нечем.
“
В результате в вечерней сиэтлской газете вместо большой скандальной статьи вышла заметка в шестнадцать строк, в которой говорилось примерно следующее: «Как сказал советский профессор Николаев, путчисты не выполнили условий, которые согласно Владимиру Ленину, должны осуществить все заговорщики, стремящиеся захватить власть. Поэтому об успехе переворота в Москве говорить не приходится».
На следующий день это подтвердилось».
«Мы пойдем другим путем»
Продолжает Николай Николаевич: «Сотрудники института понимали друг друга с полуслова, но порой научная идиллия нарушалась, бывали у нас и малоприятные истории. И нашему руководству приходилось решать сложные задачи, не связанные с теоретической физикой.
Так, один довольно слабый с точки зрения теорфизики аспирант понял, что его шансы попасть в ИТФ на работу равны нулю. К тому же ставки в штатном расписании под этого не слишком способного человека в институте все равно не было. Это показалось ему несправедливым, и юноша, бывший у нас секретарем комсомольской организации, решил непременно использовать свое положение при достижении цели.
Так, один довольно слабый с точки зрения теорфизики аспирант понял, что его шансы попасть в ИТФ на работу равны нулю. К тому же ставки в штатном расписании под этого не слишком способного человека в институте все равно не было. Это показалось ему несправедливым, и юноша, бывший у нас секретарем комсомольской организации, решил непременно использовать свое положение при достижении цели.
“
В один прекрасный день он явился к Халатникову и спросил: «А как вы думаете, Исаак Маркович, что скажут в Октябрьском райкоме (мы, как все академические институты, были к нему приписаны), когда узнают, что вы отказываетесь принимать на работу единственного кандидата в члены КПСС?».
Директор, который никак не ожидал такого поворота, прекрасно знал, что допускать конфликт с райкомом партии никак нельзя! Тогда это могло привести к огромным неприятностям для института. Он бросился к товарищу Чахмахчеву, управляющему делами Академии наук, всесильному человеку и буквально вымолил у него недостающую ставку. Заняло это три дня, что стало своеобразным рекордом. Юношу в институт взяли на ставку стажера, но поскольку он не смог за определенный период времени предъявить коллегам никаких достижений, проще говоря, вообще ничего не сделал, то Исаак Маркович уволил его с чистой совестью и совершенно законно. Здесь и райком бы придраться не смог».
Как институт стал больше
Завершает рассказ Николай Николаевич: «На заре института все заседания Ученого совета проходили в обычной квартире на девятом этаже жилого дома. Большую доску устанавливали на стульях, которые были в дефиците, поэтому все участники заседания просто укладывались перед доской на полу. Лежали, курили и обсуждали научные вопросы. Называлось это помещение «лежбищем».
Потом для наших нужд был выделен флигелек бухгалтерии филиала Института химфизики, а заседания Ученого совета и семинары проходили в конференц-зале дружественного Института физики твердого тела, а до и после семинара 64 сотрудника развивали чувство локтя в коридоре нашего крохотного флигеля. На время лекций студентам директора выгоняли из его кабинета, и так продолжалось почти полвека.
Около десяти лет назад после долгих мытарств в поисках средств и юридического решения о выделении земли началось строительство, и довольно быстро институт получил новое полноценное помещение со своим конференц-залом.
Потом для наших нужд был выделен флигелек бухгалтерии филиала Института химфизики, а заседания Ученого совета и семинары проходили в конференц-зале дружественного Института физики твердого тела, а до и после семинара 64 сотрудника развивали чувство локтя в коридоре нашего крохотного флигеля. На время лекций студентам директора выгоняли из его кабинета, и так продолжалось почти полвека.
Около десяти лет назад после долгих мытарств в поисках средств и юридического решения о выделении земли началось строительство, и довольно быстро институт получил новое полноценное помещение со своим конференц-залом.
“
Есть светлые кабинеты, есть внутренний дворик. Удобно, красиво! Даже кухня есть, где мы пьем кофе и потом обязательно моем за собой посуду.
Но самое главное то, что на нашу кафедру при МФТИ приходят, как и раньше, очень хорошие студенты, и не всех впоследствии высасывают западные пылесосы.
Институт жив, его научный статус остается привычно высоким. И нельзя не отметить, что финансирование института с нищенского выросло до сравнительно разумного. В общем, смотрим в будущее с обоснованным оптимизмом».
Институт жив, его научный статус остается привычно высоким. И нельзя не отметить, что финансирование института с нищенского выросло до сравнительно разумного. В общем, смотрим в будущее с обоснованным оптимизмом».

Фото: Николай Малахин, «Научная Россия»